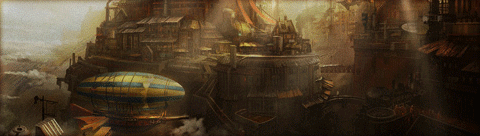МОРКАНТА ГВАУР
|
|
Ты по-прежнему ранила и ранилась, но радовалась. Роскошь, разноцветье, размеренность. Правила, помогающие победить. |
Одна из Высокого Дома; четвёртый ребёнок — много ли? мало? торжественно? важно? — в семье главнокомандующего итерийского флота, третья [младшая — не всегда любимая] дочь — и вторая, рождённая с искрой. С яркой — единственная; ей было семь лет, яблоко в руке замёрзло и едва не рассыпалось.
Из всех слуг испугались только няня с гувернанткой, — от того, что живые — мать улыбалась, но как-то совсем печально, прибывший отец — тоже улыбнулся.
На совсем краткое.
Сталью.
Изморозь с пальцев была резка, будто вспышка. Это всё и определило.
Она помнит себя девочкой — тогда; воспринявшую разлуку с семьей и отъезд в Миок лишь как резкую смену декораций, болезненно, но. Дом остался с ней как память, а Созерцатели, пришедшие за ней, были на удивление ласковы. Первое, по чему она перестала скучать в Лунном Круге — мать, молчаливая и печальная, в детском рассудке абсолютно абстрактная; и только потом тоска пришла по запаху соли и крику чаек. Морканта — взрослая, годы спустя — задаёт себе один и тот же вопрос: был ли отец рад, рад тогда и по-настоящему, ведь младшие дети — особенно девочки — красивые вещи, и чуть больше любви всегда достаётся старшим; только вещи, красивые, всё равно жалко. Она забыла, видела ли в его взгляде радость... гордость?.
Наверное, нет.
Но ей восемь, она в Лунном Круге, ничего не знает ни о разочаровании, ни о военных эскадрах, ни о схожих с селекцией браках между Домами, ни об эмансипации — ей полагается знать основы магии, искру и саму себя. И девочка неплохо с этим справляется. Она не поглощает полученные знания, голодно и жадно, — она пытается понять, это оборачивается бессонными ночами, кто-то хвалит девочку за знание теории и постоянную практику — она гордо вскидывает голову и молчит, как страшно и холодно болят побелевшие пальцы; спустя годы жесты-плетения отточены до механизма, правильно, безошибочно и ей больше нравится слово идеально.
Первый ясный ей принцип — принцип обмена. У всего оказалась своя цена.
Когда Морканте четырнадцать и годами позже, она не просто «дочь своего отца» и ворох ходящих по комнате сплетен — пусть и говорят за спиной, как легко стихийному магу воды с её родословной получить видное место во флоте, даже женщине — её называют способной, чуть чаще — старательной и упорной, руки слишком часто немеют, она готова не чувствовать холод, остающийся фантомом после сплетений, — и оставаться очень собой гордой.
Голоса за спиной совсем умолкают, когда ей исполняется восемнадцать, «блестяще» — вот что говорят наставники, Созерцатели остаются ласковы, и блестит тонкое кружево инея, покорно сползающее к нога; хочется признания — а она получает возможность быть тем, кем является, покорно и безвозвратно, сапфировый отблеск на указательном — обжигающе холодный и зачаровывающий, будто волна. Ей нравится — не в памяти дело. Просто кольцо очень идёт к глазам.
Мир за пределами оказывается шире круга — бьющийся на мозаику, не вмещающийся в грань, жжёт по началу — но она привыкает, понимает [всегда ведь в первую очередь училась понимать], по возвращению домой её встречают крики чаек и всё так же печально улыбающаяся мать; и так до прибытия отца — она не ждёт от старого адмирала ни почести, ни пригретых мест, только заглядывает в глаза [так пристально, что даже неприлично, рамки этикета разбиваются на микроскопические льдинки] — ищет ту девочку, пытается понять: потерял...? — и натыкается на сталь.
Всё та же.
Колоться о лёд всё равно больней — и слаще.
Дом образцово опустел — двое старших дочерей уже отданы мужьям по хорошей цене, ей остаётся как последней право выбрать [а оно всегда у неё было, в историях про девочек, выданных за стариков, конечно, драматизируют] — не из возможного, но из зол — меньшее. Её троюродный кузен — брак чист, в пределах Дома, стерилен, очищен и выскоблен от страстей. Он понимает её, она — его, они — своё положение и свою перед другими [кто-то ведь всё равно продолжает верить в любовь, бесстыдно, бесслёзно]. При полном отсутствии чувства она считает Гавайна своим идеально нелюбимым мужчиной; ему ближе море — в достаточной степени, чтобы ей самой месяцами оставаться свободной, а с прибоем — становиться холодной ровно так, чтобы не приносить в вынужденный брак больше сложностей, они не друзья даже [что за глупости] — больше партнёры, но Морканта всё равно отзывается о муже с искренней теплотой; он её уважает, она — его; и вслед волнам не будет лить солёные слёзы женщина, способная создавать лёд и.
Жизнь создать так и не получилось, говоря совсем просто — Рейно не дал ни сына, ни дочь.
Впрочем, это было бы лишнее.
Это бы всё испортило.
В сердце будто тесней — своё место занял бессловесно и беспричинно выполненный долг; он дарит ей кости и серебро, она — безответно — целует в щёку, благодарность, обёрнутая в горечь и проткнутая иголкой; его часто не бывает дома, её — тоже, Морканта возвращается в Круг, мир вокруг собирается в идеальную [ей так нравится это слово — от осанки и исписанных ночами листов] фигуру — и так привычнее, проще; если метить на место выше «обычного мага» и «чьей-то жены и дочери», приходится много работать — [Гавайн дарит ей пудру с пылью белых жемчужин, она накладывает её под глаза, мешая бессонную синь и перламутр] — она называет это «целью», кто-то другой «отличным научным трудом», кто в меньшинстве, тот говорит ей о молодости, зачем-то обращая это в укор [ей двадцать пять, и это не юность, это всё заслуга масок из моллюсков, угля и перламутра], спрашивает о том, почему она выбрала тишину кабинета, редких учеников, а не флот; кто-то один говорит ей о том, как прекрасно море — и это, конечно, Гавайн, дарящий ей живых змей, белые кости и серебро.
Ей очень идет.
Не уточняет, что.
Она знает как жестоко море — однажды видела даже шторм. Только мужа забирают не волны — так мелочно для воды, глубина и холод забирают обычно в с ё — мир за пределами Круга мозаичный, от того и хрупкий, — Гавайн просто не просыпается однажды утром; медик говорит ей о сердце — о его, конечно же, плотское и человечье, бывает, не выдерживает — Морканта впервые за долгое время чувствует холод, от этого больно, он разрастается со стороны рёбер, особенно ярко — с левой.
Кажется, в тот вечер она плакала в первый раз — и в последний.
Чёрный ей не идёт — не начал быть к лицу и за годы траура, от осуждений и сплетен её спасает собственная отрешённость — её легко спутать с печалью; ей жалко на самом деле — но так теряют не людей, а приевшиеся привычки, обычаи, вещи — все подарки лежат нетронутыми, даже живые змеи обратились в кожу и кости; она не говорит о том, что свободна — хотя очень хочется — она молчит о том, что осталось хоть что-то, ртутное и бесслезное, что тянет её на дно; жизнь складывается изломом стеклянным, мир вокруг теперь кажется кружевом, а не мозаикой, если что и было мертво, оно начало оживать, — Морканта слишком много думает о себе, о себе — и пишет о магии, первая часть труда «Стихия как искусство» приносит ей популярность, вторая — нечто, схожее с благодатью [в узких, конечно, кругах]. Её интересует по большей части то, что она сама знает лучше, — она пишет о воде как о всём сущем, о льде как о камне — и сравнивает мага со скульптором; мир замыкается в круг — она чувствует себя в центре и думает о написании другой монографии [если заслужить статус магистра, то можно ведь однажды — и наставницы, ей так кажется, и в этом и окаменелая целеустремлённость, и детская мечтательность] — отвергает предложения о вторичном замужестве, врастая в маску траура, и за это — не боясь даже отца, хотя между — уже давно пропасть, и дело совсем не в статусе — он своего давно достиг, она — даже не выбилась к верхушке Конклава [она думает о том, что стоит снять новенькие туфли и пойти по головам — только потом мысленно сама себя останавливает, гася тщеславие в зародыше, всего надо добиваться, а не вырывать куском].
Морканта верит, что сделала для Круга многое — ещё верит в то, что лавандовые ванны спасают от морщин на коже; заводит новых «слуг», сад ледяных цветов на один вечер и миниатюрного живого питона; идея сравнить магию с искусством пришла к ней не просто так — за годы со смерти мужа она научилась дарить себе подарки сама, окружая себя драгоценностью, костями мёртвых зверей, резной мебелью и скульптурами.
Она не помнит когда говорила с отцом [мать остаётся на поверку чувств абстрактной и слабой, всё равно что образ пены морской в памяти, механически качает головой — «тебя интересует только магия»] — только пишет сухо, что будет сопровождать архимага во время его визита в Эренхаст.
Кости, серебро, змеи и ледяные розы каждое утро на письменном столе ей немного наскучили.
Да будет так.
«Ступаю в кабинет, зацепилась каймой платья, нет, сначала надо поправить, нужно выглядеть идеально. Платье идеально, туфли идеальны, шляпа идеальна, посох - парадная принадлежность, а не оружие».
Бледная — не болезненная, не мертвенная, просто лишённая красок; коже и волосам это можно простить, вкупе с правильными чертами лица и изящными пальцами — это всё равно что клеймо, указывающее на века отточенной родословной и принадлежность к аристократии; только белесые ресницы и брови немыслимо оставить без слоя нанесённой краски; глаза — светлые, ледяные, ей всей под стать, и такое уже не исправить; из всех людей, кто скажет, что она по-настоящему красива, будет наиболее искренни только художники-графики и резчики по мрамору.
В одежде — аккуратность и дороговизна, позволительная роскошь до грани, где начинается вульгарность; украшения — исключительно из серебра, цвет ткани — идеально [она готова следить не только за чистотой, но и за драпировкой ткани] белое или букет холодной гаммы; никогда — никогда не наденет красного.
Очень редко смеётся, но может улыбаться. Холодно.
Говорит обычно тихо [обязывая будто всех вокруг застывать в молчании] — спокойно до отсутствия всякой эмоции, позволенный максимум — ласково, но это только с теми, кто ей дорог; между лаконичностью и несуразицей в речи выберет витиеватость, порой использует заимствования из других языков, узконаправленные термины и метафоры — со знанием, что собеседник её поймёт, и не поставит их обоих в глупое положение — глупые положения она ненавидит, это отхождение от образа, от выбеленной идеальности, — всё равно что порченная репутация, неглаженая ткань или давно вышедший из моды аромат.
Она не флегматична до самых костей — всё больше перфекционистически нервозна, всё больше играет в спокойствие, хотя играет поразительно и отточено — в первую очередь; любит себя — из-за невозможности любить в этой же степени кого-то другого, недостаток эмпатии возмещает внимательностью к окружающим, отчасти зависима от чужого мнения — но тщательно это скрывает. Целеустремленна, но своего добивается с оглядкой на собственный комфорт, самую малость — на чей-то кроме; трудолюбива и фанатично увлеченна, когда дело касается того, что ей дорого и знакомо; любит красивые вещи, в том числе и красивых людей, приятные запахи и роскошь, контрастно этому — умеет тратить деньги; озабочена своим внешним видом, гардеробом и этикетом.
«Твоя магия отрывает их частички, крошечные, капли от капель, парящие перед падением. Они плещутся вокруг, водою в чашке, ограниченные, оглушенные, слышат только твою песню. Они хотят скользить, сверкать на коже.».
Талантливый маг воды — вшившая в природную одаренность и изнуряющую практику, и годы теории, и собственное понимание стихийной магии, старание и упорность обратило это в лёгкость при плетении заклинаний — от поднятого из графина сгустка воды до возведённой за секунды ледяной преграды; в настоящих стычках она, правда, никогда не участвовала — чему благодарна; физической крепостью пришлось заплатить за познания в магии, из оружия справится разве что с кинжалом — и то ткнёт наугад.
Ввиду воспитания и образа жизни почти беспомощна в бытовом плане, на открытой и незнакомой местности ориентируется слабо, не самая лучшая наездница — и предпочитает экипажи.
Имеет познания среди научных дисциплин — особенно в истории и языкознании [кроме родного, итерийского, говорит, пишет и читает на имперском, знает кьер, сейнат и общие фразы на сангамском]; разбирается в культуре, риторике, искусстве и драгоценность камнях; в механике — в достаточной степени, чтобы заметить, что со «слугой» что-то неладно, но сама никогда не сможет ни исправить сложный механизм, ни собрать; имеет крайне расплывчатые и туманные познания в кораблестроении, всё же семья и положение Дома обязывают; начитана — не исключая литературы на других языках; разбирается в этикете — от основ «как ведёт себя приличная женщина» до тонкостей — вроде положения пальцев на вилке для улиток и морских гадов; боязливо держится в седле и не умеет плавать.
Неизменное магическое кольцо с сапфиром, практически несчётная коллекция иных ювелирных украшений; имение мужа в окрестностях Дердра — там же расставленное по комнатам собрание безделушек и редкостей, богатый гардероб и обширная библиотека; карликовый питон-альбинос по кличке Кренос.
Планы на игру: интересно поиграть во всякое магическое, можно даже с интригами, вздыхать, как чудесно и спокойно было в Итерии, а тут открыли Разлом, вот дураки; если играть личное, то наступить на грабли, пожевать стекла [ледышек] и посмотреть, как сия дама может возвыситься. Или деградировать;
Участие в сюжете: хочу потрогать сюжет, так что мастеринг, наверное, априори; в личном как-то уж сама;
Связь:
За стеклом по сторону эту пыль, по другую — больно, Иггдрасиль плетёт шее тугие кольца, но это просто последствия запоздалого холода, чувства, что весне осталось немного — и дальше опять циклически, проживая несбывшиеся битвы. Хель смотрит в окно и что-то ждёт — без имени, без памяти, без умысла, хоть Рагнарёк, хотя до конца не понимает, что это такое — когда всё должно закончится, и займётся рассвет — отполированный кровью и волнами, чистый и новый — его бы забрали сразу же в этом месте, вырвали бы с корнем из горизонта как лампочку в подъезде, умыкнули как то, что оставлено без присмотра, что лежит плохо — почти красиво манит. Они, должны быть, эти мистические они мистерией — украли бы даже солнце — если не уже, а то так давно не появлялось, когда — Хель даже не помнит, смотрит и ждёт.
Свитер не по размеру — траурно серый, как брошенный меч на поле битвы, хотя она точно знает, что не помнит войны — и помнить не должна но — кажется, что именно такое острие — оставленное без присмотра — цвета асфальта.
Пока не коснётся ржавчина, но шерсть не ржавеет — просто оставляет холодок на коже и не хранит тепла. Вовсе. Хель всё равно — Хель привыкла.
И к юбке тоже — длинной, ниже колен, некрасивой — пусть она успела забыть, на что похожа противоположность — и к тонким в затяжках капронкам-чулкам, словно в трещинках.
На кафеле красном.На рассвете принесли одного. Сказали, что было семеро, но. До синевы почти небесной бледного, до черноты синяков предплечий выеденного плодом, желто по-мертвецки как птичий рот, какое тепло не бывает в усопших. Больно. Больно — это где-то между рёбер просто дернулось, дернулось и замерло, замёрзло неверным расчётом.
На календарь настенный плевать. Зима ещё не кончилась.Было семеро.
Осталась одна. Мать-коза — действительно коза, без метафор глупых и ругательств, помогут будто.
Хель кажется, что она знает, какие у неё были глаза, когда она всё услышала, — не звериные даже, а будто бы какие-то покорные всему сущему, беспомощные, рыбьи. И руки в узорах красных капилляров замерзали вот прямо как у неё сейчас — от самых запястий.
И глубже в кость. Она не верит, не знает, кто зашёл на порог.
Ушла в очередь за молоком — вместо семерых в дверях квартиры встречает один только. Участковый.Участковый и ей всё рассказывает — голосом бархатным, глазами бесстрастными, разворачивает что-то на редкость маленькое — следы на шее как мак красные, никто давно уже не продаёт цветов, а она этот цвет всё равно знает, не просто красный, а горестный, на могилах и полях битв расцветающий — их было семеро, это самый младший.
Зачем нести всех, если все по сути — одинаковые.
На щиколотке — след зубов, мех сед, зрачок жёлт — но это только если додумывать за хрустом костным, когда закрывается пасть, чуть страшнее той, что может принадлежать простому волку. Следов — много, но слово это не вывести просто, не по правилам и не протоколу — «двадцать два укуса, обширные гематомы, не хватает глаза, клока волос и пальца».Тупой нож мёрзлую плоть всё равно режет как масло.
Она недолго думает, утирая губы и сжимая в пальцах чуть более тёплых, чем труп, ручку.
«Двух пальцев».
Мех сед, зрачок жёлт — иголка, зверь, наверное, был умным — других на порог не пускают.
Она невпопад думает, что у козлят зрачки тоже — игольчатые, повёрнутые неправильно, как горизонт, где засыпает солнце и не видно больше ничего — потом вспоминает, что уцелевшее веко само оказалось закрыто ещё до того, как привезли — жалко.
Только из-за того, что не успела посмотреть.Жалость в этих стенах на самом деле атрофируется первой. Потом засыпает какое-то подобие страха. Привязчивости. Привычки запоминать лица — вместо красных ртов и распахнутых глаз видеть красные, красные, красные раны. Цвета мака. Или чего-то ещё.
Когда мёртвых чуть больше, чем болезных, — это по-своему правильно, мёртвые лежат, разрезая хребтом мягкость кушетки и звон каталки по неровному нервному кафелю, молчат, молчать в этих стенах — самое правильное.
Живые тут редко бывают.
Живые приходят — и говорят «криминал». «Бордель». «Квартира такая-то» — про квартиру Хель даже немного завидно-радостно, но это лирическое, и опять молчащее инеем — и «пожалуйста» она слышит гораздо реже. Гораздо даже реже, чем «страшно». Привозят девочек, в которых есть что-то королевское — платье, например, от крови взмокшее, придётся разрезать и выбросить, ну и пусть, всё равно безвкусное, — и королев, в которых есть что-то девичье — когда даже королева уколола палец. И умерла от заражения. Привозят девочку — всё, что осталось от, всё, что осталось — даже корзинки и то больше в объёме с красным плащиком, чем останков, она сминает в ладонях красный — ну, ненастоящий же, но всё равно — красный бархат.
И думает невпопад, каково это — есть живых, когда они трепыхаются и.За седьмым козлёнком приходят поздно вечером, с теми же тряпками, каталка практически не звенит под весом — разве что очень тихо. И очень жалобно.
Хель улыбается, туманно и под цвет кафеля, зачем-то спрашивает:
— А отец?
— Что отец? Козёл он, как мать сказала.И не поспорить, право.
Стекло по ту сторону кажется чёрным, словно выстеленным шёлком — Хель из термоса пьёт остывший чай, придерживая крышку-чашку пальцами — и невпопад думает, что хочет такое же платье. Может, как-нибудь достанет, в обмен на ребро или какое-то очень редкое сердце — принцессы или королевы — или как там дорогих проституток называют клиенты. Или как приходится писать в протоколе, потому что не осталось ни рожек, ни ножек.
Или голову чудища — но за чудище только какую-нибудь волчью шкуру, завернуть в неё ноги в дурацких ботах. И себя — в платье ночное, шёлковое.
Хель выдыхает стылый воздух — домой идти совсем не хочется, хочется самой — хребтом на кушетку, волосы как снег до кафеля белого разметались, и чтоб ничего не резало — ни ножом, ни взглядом, ни делом.
Ни дурными соседями.А потом раздаётся скрип и первый неверный шаг — это выводит, вырывает её из оцепенения минутного — часового или вечного, кому какое дело? — и заставляет взглянуть на вошедшую с приветливым отсутствием интереса.
— Смена закончилась. Что у вас? Срочное?
Кидает в пустоту вопросы, жёсткие, голос — стальной будто, но сталь застывает в трещинах пола, — остаётся только что-то болезненно-боязное. В глазах и голосе.
Это усталость просто.